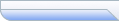ОБ ИСПОВЕДИ
У меня часто спрашивают, как подготовиться к исповеди? Об исповеди я говорю регулярно, принимая исповедников... Могу привести два примера. Но оба раза я не был свидетелем этих случаев. Один случай рассказал мне мой отец, второй — известен тоже от близкого мне человека, протоиерея Саввы Трубицына. Я ему в шесть лет подавал кадило, в нашей гимназии он преподавал нам Закон Божий. Однажды, когда уже учился в Духовной Академии, я приезжал к нему в Ригу, и он рассказал мне о своей духовной дочери Софии Николаевне, добавив, что это был человек святой жизни. Рассказ Софьи Николаевны я тоже могу привести, так как в свое время узнал об этом от отца Саввы.
Рассказ Софии Николаевны
Первая исповедь в 7 лет. Мы жили тогда в Петербурге против Греческой церкви, настоятель которой был незабвенный Архимандрит Неофит. Маленький домик, где он жил, находился там же в церковной ограде. Маленькой девочкой помню себя, когда с младшим братом и няней гуляли в этой ограде, куда собиралось много ребят из соседних домов. Отец Архимандрит часто сидел, окруженный детьми, на скамейке. Казалось бы, черный и страшный, но дети его не боялись, чувствуя любовь и ласку, нередко получали кусочки просфорки, которыми он угощал ребят. Первой исповеди я очень боялась. В нашей семье были шутники, стращавшие меня тем, что, если грехов много, батюшка рассердится, сядет на стул и велит возить себя по церкви. Настал вечер, пошли к службе — мама, отец и я. В правом и левом конце храма стояли ширмы, за которые входили исповедники, и о. Архимандрит исповедовал открыто на солее слева. Помню страх и трепет, с которым я подходила к нему. Но вот — большая рука обняла меня, нежно привлекла — всякий страх мгновенно прошел. Ни о каких грехах не было речи. Тихий, ласковый голос говорил о том, как Господь Иисус Христос любил детей, и как дети должны любить Его. Эта исповедь, эта духовная беседа произвела на меня глубокое впечатление, и зародился в душе упорный вопрос: а меня любит ли Христос, как Он любил других детей? Среди игр детских и занятий вопрос не покидал меня.
В кабинете отца висела довольно большая икона Спасителя — с Евангелием и благословляющей правой рукой. Я стала часто подходить к этой иконе, когда в комнате никого не было, становилась перед нею на колени и спрашивала: «Любишь ли Ты меня?» Задавая этот вопрос очень часто, я упорно ждала ответа, — и я его получила. Мои занятия с мамой происходили в отцовском кабинете. Однажды утром во время этих занятий в передней раздался звонок, кто-то пришел, и маму вызвали. Очутившись одна, я быстро направилась к иконе, опустилась на колени и обратилась к ней со своим неотступным вопросом. И вдруг мой Спаситель мне улыбнулся и глава Его наклонилась — положительным ответом. Шаги идущей матери заставили меня вскочить на ноги и направиться к столу, но вид мой был так взволнован и, по словам мамы, я была такая красная, что она стала спрашивать, что я сделала, предполагая какую-нибудь шалость. Но я упорно молчала и за уроком, кажется, была рассеянна. Убедившись в том, что Господь меня любит, я успокоилась. Моя благодатная тайна осталась в моем сердце и постепенно — кто бы думал? — заглохла в нем. Родители мои были верующими, но не церковными людьми. В церковь ходили редко, говели один раз в год. Я любила бывать в церкви, но почемуто за службами всегда плакала, и потом у меня разбаливалась голова. Мама решила, что мне вреден ладан, и хождения в церковь совсем прекратились, кроме очень редких, особых случаев. В гимназию я поступила поздно, прямо в 4-й класс. Уроки Закона Божия любила. В начале законоучитель меня спрашивал почти каждый урок, но, убедившись, что я его всегда знаю, оставил совсем, спрашивая только перед выставлением отметок. В гимназии мы обязаны были говеть раз в год. Это совершалось уже механически. Дальше медицинский институт, студенческая жизнь. Гимназия дала мне золотую медаль, окончание института — оставление при кафедре для написания научной работы. Дух гордости, самомнения, всякой иной самости питался пространно и торжествовал. Замужество, венчание в церкви (этого требовало приличие!) — все было внешностью, о которой теперь и вспомнить страшно. Бог был забыт, но Он, Милосердный, не забыл той, которой чудесно изъявил Свою любовь.
Замужняя жизнь — счастливая, содержательная, полная кипучей деятельности — и научной, и врачебно-клинической. Оба с мужем — ассистенты кафедр медицинского института. Приятные знакомства в музыкальном мире, материальный достаток. Казалось, все было дано для полной удовлетворенности жизнью. Она и была — до времени.
Но вдруг, без всякой, казалось бы, причины, среди полного довольства, счастья, всяческого благополучия стало ощущаться какое-то «но». Не то в виде недоуменного вопроса, не то в виде едва ощутимой физической боли. Оно росло, это «но», и довольно быстро, и стало сильно докучать. Интерес к научной работе и новой моей разносторонней деятельности не нарушался. Наоборот, я старалась еще сильнее отдаваться работе, чтобы заглушить в себе это «что-то», такое чуждое, непонятное, но оно стало все сильнее преследовать меня, в особенности в часы отдыха, нарушать душевный покой. Будучи сама врачом, я понимала, что никакой физической болезни у меня нет. С мужем, с которым отношения были самые дружные, близкие, я об этом не говорила. Он ничего не понял бы в моих ощущениях, с удивлением бы спросил, чего мне не хватает. Я молчала, но мой внутренний враг, томивший меня, стал более жестоким: это была тоска, безпричинная тоска, которая отравляла все мое существование. Я едва забывалась в часы напряженной работы. Если бы мне кто-нибудь сказал, что эта тоска — по утраченному Небу, по Богу, Который был забыт, я бы рассмеялась над этими словами, настолько они показались бы мне дикими. Однажды я вернулась с работы домой, пообедала, хотела чем-то заняться, но состояние душевное было настолько тяжело, что мой враг — тоска выгнал меня из дома. Я шла без цели, не зная куда иду, не отдавая себе отчета в окружающем. Вдруг — с толпой народа, я была увлечена в церковь. Как я попала в эту толпу, — не помню. Был Рождественский сочельник, шла торжественная всенощная. Прошло несколько десятков лет с того памятного вечера, но я всегда плачу, когда о нем вспоминаю. В моей душе происходило что-то непонятное, но что-то потрясающее. Хотелось скорее уйти. Я сознавала, что мне — неверующей — нечего делать в этих стенах, сознавала также, что мне — не место в этом торжествующем храме. Вместе с тем я чувствовала, что именно в нем совершалась какая-то правда, властно меня охватывавшая. Сколько времени я пробыла в храме, когда ушла из него, не помню. Помню только, что душевное мое состояние после этого дня стало еще хуже, еще невыносимее: гордый ум не сдавался, а сердце томилось по истине. Правдами и неправдами я скрывала свое состояние от близких. Продолжала прежний деятельный образ жизни, но меня неудержимо тянуло в церковь. Казанский собор бывал открыт целый день. Я входила в него иногда, стараясь быть незамеченной кем-нибудь из знакомых, становилась обычно в темном углу перед Голгофой. Там моя тоска находила себе исход в ручьях слез, — о чем? Я бы не дала тогда ответа на этот вопрос. Я плакала до изнеможения. Тогда тоска утихала. Дождавшись, когда слезы высохнут и лицо придет в норму, я опускала вуаль (тогда их носили), и выходила из собора, чтобы снова возвращаться в него, когда сердце потребует. Моей первой сознательной молитвой была мольба: «Если Ты есть, Ты не можешь не сжалиться над таким несчастным существом, как я»... Понемногу периоды плача стали короче, успокоение глубже, тоска оставляла меня. Явилось в сердце что-то новое. Я стала прислушиваться к речам верующих людей. Явилась потребность очистить душу сознательным покаянием. Но как это сделать? С кем посоветоваться? Гордый ум еще не сдавался. Сердце как бы скрывало свою тайну от него и действовало робко, крадучись. Кое-как мне удалось узнать, что в Иоанновском монастыре на Карповке ежедневно можно исповедаться (был Великий пост). Я пошла туда однажды утром. Вслед за другими исповедниками пошла и я. Нечего и говорить, как несовершенна была эта моя первая исповедь. Духовник догадался спросить, ела ли я что-нибудь утром, и, когда получил утвердительный ответ, сказал, что разрешение грехов мне дает, но к таинству Причащения просит прийти завтра натощак. Какой удар глупому самолюбию! Я не допущена к Чаше, люди это видят; не пошла завтра. Но благодать Божия уже коснулась души и заставляла идти до конца намеченным путем. В Великую Среду после всенощной я еще раз исповедалась в другой церкви, в Преображенском соборе на Спасской, куда привела меня рука Промысла Божия в Рождественский сочельник.
В Великий Четверг пошла к ранней литургии. За ней я уже молилась сознательно. Чем дальше шла служба, тем сильнее охватывало сознание своего недостоинства, охватывал прямо страх пред грядущей Чашей Христовой. Я рыдала всю службу, как грешница у ног Христовых, и моими слезами могла бы омыть Его ноги. Я бы, наверное, не дерзнула подойти к Святой Чаше, если бы священник, вышедший с Нею, по внушению свыше не сказал нескольких слов о том, что никто не достоин Божественного Дара, но достойнее всех тот, кто сильнее чувствует свое недостоинство. Я спокойно подошла и радостно причастилась — в первый раз после 20 лет. Но этот шаг был только началом дальнейшего, большого труда: ведь мое обращение было новостью для моих домашних, для мужа, который оставался атеистом. Предстояла долгая трудная борьба, тем более трудная, что я была совершенно одинока в ней, не было духовного друга, которым (долгое время спустя) стал о.Николай А. Предстояла ломка, перестройка устоев жизни. Все, что не выдерживало суда обновленной совести, — изгонялось, а требования ее водворялись. Так водворились святые иконы в моем доме, из которого они были изгнаны раньше, как ненужные. Благодать Божия мне помогала, поддерживала, укрепляла в решениях. Подобно тому как в апостольское время в молодой церкви христианской совершалось много чудес для укрепления веры новообращенных, и мне давал чудесные знамения Господь для моей еще немощной, робкой веры. Так, в один Великий Четверг, после чтения Двенадцати Евангелий, люди выходили из церкви с горящими свечками, защищая их от ветра — кто в фонариках, кто в удобных бумажных свертках. Я же не предусмотрела этого, и ничего с собой не было для защиты моего огонька. Попросив у соседа небольшой кусок газетной бумаги, я сделала щиток и с ним вышла на паперть. Сильным порывом ветра он был мгновенно вырван из рук и слабое пламя свечи затрепыхалось, вот-вот погаснет... И вдруг мысль — «если Господь захочет, то свечка не погаснет». Господь захотел, и я донесла мой святой огонек, ничем не защищенный от сильного ветра, в протянутой навстречу Ему руке, весь неблизкий путь до дома и зажгла им лампадку в своей комнате. Как же горячо я благодарила Господа за чудо милости Его!
Но хочется мне вернуться немного назад. Пасхальная заутреня в том же соборе Преображения Господня после Великого Четверга, в который я причастилась в первый раз. Еще торжественннее служба, радостное, победное торжество. А где же то несчастное существо, в душе которого совершалась страшная драма в Рождественский сочельник? Его уже нет. Едва ли не самой счастливой изо всех, до отказа наполнявших громадный собор, была я в ту светлую ночь. Как и тогда, я не понимала происходившего вокруг меня, у меня не было знания моей веры, но всей своей обновленной душой, благоговейно-радостно трепетавшей навстречу происходящему, я чувствовала правду этого торжества, я вся была им охвачена, как и блаженством сознания, что я, подобно всем здесь находящимся, имела на это право. Моя душа сияла ярче свечи, что была у меня в руках, и этим своим сиянием неведомо для себя свидетельствовала истину Христова Воскресения. Мне представляется школьник-новичок, давно стремившийся к этому званию. Вот он — торжественный, в новом костюмчике, с тетрадкой и карандашом в руках — пришел в школу; он еще ровно ничего не знает из той премудрости, которую когда-то превзойдет, но он счастлив сознанием, что он имеет право прийти в школу, сидеть в классе и слушать учителя.
Моя повесть приходит к концу. Уже в Пушкине в 24-м году, когда я сломала себе ногу и сидела в постели около 3-х недель, я решила — для моего дорогого отца духовного — Николая А. — написать воспоминания о моем обращении к вере. И тут только, в первый раз с 1888 года, я вспомнила об упорном вопрошании Господа маленькой девочки — любит ли Он ее, и полученный ею Божественный ответ чудесным знамением на святой иконе. Этот священный факт Промыслом Божиим был скрыт совершенным забвением, вычеркнут из памяти той, что могла осквернить его, уйдя от Господа «на страну далече», и открылся снова верующему сердцу — для прославления имени Божия, Его безпредельной любви к заблудшему созданию Своему и спасительных путей Святого Промысла.
Рассказ отца и соседей
Об этом случае мне рассказал отец и соседи, которых я застал в то время, когда еще были живы родители.
Заканчивалась война. Немцы отступали. Родители мои жили близ моста через Западную Двину, который имел стратегическое значение. Советское командование хотело его уничтожить, чтобы немцы попали в окружение. Жить там стало невозможно из-за гула непрерывно налетавших самолетов, стремившихся разрушить мост, да и опасно. Родители мои были уже тогда престарелыми... Они быстро собрали свои скромные пожитки и отошли в сторону деревни, там были у них знакомые, где можно было поместиться. Когда потом, вскоре, они возвратились, то обнаружили, что у них украли все имущество. Имущество было очень скромное, но они не так об этом сокрушались, они пожалели только о том, что украли курочек — ведь время было тяжелое, полуголодное. Средств к существованию у них не было — только небольшой огород, да вот эти курочки. Отец уже тогда ходил на костылях, ему было за семьдесят, а мать быстро теряла зрение, и в то время была уже полуслепой человек.
Спустя некоторое время после этого я поехал к родителям. Они рассказали обо всем, что пережили за это время, и с большим огорчением вспоминали об этой потере.
Прошло время, годы, не скажу сколько. Я был в отъезде, сейчас не вспомню, где именно, приезжаю на родину, и мне рассказывают такой случай. Отец лежал больной. Вдруг приходит к нему сосед. А у соседа дети были моего возраста, я с ними рос. Сосед был большой труженик, штукатур. В детские годы я помогал ему штукатурить, прибивал дранку. Он мне оплачивал немного, сколько мальчишке можно было дать. И вот сосед этот приходит к моему отцу, лежащему уже на смертном одре. Обращается к нему и говорит:
- Петрович, ты меня прости, Христа ради. Это я украл твоих
курочек.
курочек.
Отцу уже ничего было не нужно. Он ответил ему, как принято:
- Бог тебя простит.
И Маркелл (так звали соседа) остался здесь сидеть. Некоторое время проходит, появляется кто-то из соседей.
- Петрович, кто это у тебя здесь сидит? Маркелл? Маркелл,
Маркелл, ты что?
Маркелл, ты что?
А Маркелл уже не отвечает. Он покаялся и умолк навеки. Вот такой мне запомнился факт.