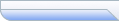В Инте, в лагере
42 дня провел я в дороге. В Инту я попал 12 июня 51-го года.
В современных исследованиях о ГУЛАГе интинские лагеря названы самым большим островом этого Архипелага.
В разных лагерях Инты было сосредоточено несколько сотен тысяч заключенных... А по площади интинские лагеря, как я позже узнал, занимали 36 тысяч километров. Для сравнения — площадь Крыма — 25 тысяч километров, площадь Молдавии — 33 тысячи километров.
Инта встретила вьюгой. Шел снежок. Зима кончалась числа 20-го июня и начиналась приблизительно в двадцатых числах августа.
60 километров от Полярного круга. Лесотундра.
Привезли на 5-е лаготделение «Минерального» лагеря. Здесь я получил «прописку» — номер заключенного: «В-1-758», который проносил на спине все время до освобождения.
Этот номер, споротый с лагерной тужурки, я храню по сей день. Может быть, не все знают, не попадалась такая информация, на «Деле» отбывавших срок «врагов народа» стоял гриф: «Хранить вечно». На некоторых делах писали сокращенно две первые буквы: «Х.В.» Для верующего человека эти буквы означают особое, святое понятие. Приветствие христиан — «Христос Воскресе!». На металлической коробочке, где хранится мой лагерный номер, там еще положен носовой платок, я его сохранил со времен лагеря, я написал X. В.
Никогда не забуду, что меня арестовали под праздник Покрова, 10 октября, и освободили после Покрова, 15 октября.
...Режим в лагере был такой. Разрешалось два письма в год. Два выходных в год — 1 мая и 7 ноября. Свидания строго запрещены. Если кто-нибудь приезжал к заключенным, а приехать в Инту — это не ближний свет, заключенного прятали в камеру, чтобы никак невозможно было увидеться с посетителем. Приехавшему предписывалось немедленно покинуть лагерь. Однажды сестра Сергея Шенрока приехала повидать брата. Свидание так и не разрешили. Далее, ходить по лагерю предписывалось только строем — на работу, в столовую. Просто ходить по территории запрещалось.
У нас был десятичасовой рабочий день. Барак на ночь запирался.
5-е лаготделение состояло из больницы и пересылки. На территории особые постройки. Бараки, столовая, кухня, пекарня, баня, хоздвор. Специальное помещение для прожаривания щитов от нар, чтоб не заводились насекомые.
Когда я проходил карантин, то в карантинный барак пришел прораб искать нужных ему строителей. Узнав, что я руководил стройкой и что я из Прибалтики, он стал хлопотать, чтобы меня отпустили в строительную бригаду. Первым делом надо было строить пекарню. Материалов было очень скудное количество. Но рядом — карьер, в карьере шел камень, глина, и так как цемента давали очень мало, приходилось строительный материал изготавливать самим.
Не было также никаких древесных строительных материалов. Мы разрабатывали лес, у нас была для этого циркульная пила. Не было гвоздей. Резали обручи и из них делали гвозди. Сами обжигали известь. Построили печь для обжига. Когда была построена пекарня, надстроили второй этаж, для бухгалтерии. Таким образом тепло пекарни давало обогрев второго этажа.
Затем мы перестроили водокачку. Она была слишком примитивиой — деревянный чан на 8 кубометров воды. Мы углубили скважину, водонапорную башню поставили на 15 метров, сделали бак на 96 кубических метров. Внизу сделали обширное помещение для обслуживающего персонала. Башня получилась даже красивой. Мы решили украсить ее еще и флюгером. Один литовец, резчик по дереву, вырезал изображение спортсмена. Фигура была зафиксирована, может быть, в прыжке или в момент бега, в руке у него была стрела. Укрепили украшение на шаре. Стрела в руке человека следила за направлением ветра. Но начальник режима запретил эту «вольность». Он сказал: «Бегущий спортсмен может призвать к побегу». Пришлось оставить просто вращающуюся стрелу. Строили мост, который почти совсем обветшал. Закрывали для этого на время движение, ставили новые балки.
За отсутствием обычных материалов мы строили здания из цемента, глины, камня. Построили ледник, чтобы дольше хранились продукты, ведь холодильников тогда не было. Продумывалась система изоляции.
Мы не только строили, мы даже изобретали. Когда требовался по строительной технологии кирпич, а его негде было взять, И не было соответствующих технологий изготовления кирпича из исходных материалов, было сделано такое изобретение. Я нигде, ни до этого, ни после, не встречал подобных строительных технологий. Их можно было бы по-современному назвать «ноу-хау». Из имеющейся аргиллитовой породы, в которой находились вкрапления угля (породу брали в шахтных отвалах, перемалывали), формовали кирпичи. В печах, при обжиге, при определенной температуре уголь — эти его небольшие фракции — сгорая, давал нужную температуру, и так обеспечивался необходимый химический процесс, который нужен при обжиге обычного кирпича. Изобретателем этого кирпича был Сергей Петрович Бугримов, очень талантливый инженер. Он по совету понимающих в патентоведении людей написал в Москву, чтобы получить патент на свое изобретение. Год ждал ответа. Еще раз написал. Потом по прошествии нескольких месяцев получил ответ, что его изобретение не ново, оно давно зарегистрировано изобретателем Рапопортом.
Из этих изобретенных Сергеем Петровичем кирпичей мы строили дома уже в самом городе Инте. Построили специальную пошивочную мастерскую в зоне. Обратил внимание однажды, оказавшись по делам строительства на территории пошивочной, как заказы принимала женщина. Свою одежду она, как могла в этих условиях, сделала модной, даже щегольской. Ей, как профессионалу, видимо, невозможно, невыносимо было носить уродливую телогрейку. На ней был черный, что называется, с иголочки, сшитый сатиновый халат и белоснежный, из какой-то особой материи номер заключенного на спине.
Кстати, заключенный получал 2-3 процента от той суммы, которую он зарабатывал. И я ежеквартально посылал своим родителям 100 рублей. Они жили очень скромно. Пенсию не получали. Когда в сороковом году пришла советская власть в Латвию, родителям трудно было доказать, что они имеют право на пенсию: отец работал не на государственной работе, такой категории тружеников пенсия не полагалась.
Они жили, имея небольшой огород, который давал им какое-то пропитание. И, конечно, эти деньги, которые им посылались, много для них значили, так как они к тому времени были одни. Мать слепла. Отец стал болеть.
В общей сложности мы построили в городе поликлинику, Дом культуры, водокачку, жилые дома. Самые высокие тогда дома в Инте — трехэтажные.
Однажды мне показали документацию на строительство нового объекта. Объект № 34. Я посмотрел чертежи и увидел, что планируется строительство внутренней тюрьмы. От этого строительства я наотрез отказался. Сказал, что этот объект строить не буду.
Как-то мне это сошло с рук...
Однажды, может быть, в честь какого-то праздника, 1 мая или 7 ноября, был устроен для нас театр, в столовой. Артист был всего один. Очень худенькая молодая женщина, на вид подросток. Одета она была в косоворотку и сапоги, стриженая. Театральный реквизит очень скромный — табуретка. Давали представление по рассказу Антона Павловича Чехова «Ванька». На сцене Ванька Жуков писал письмо дедушке. Тонкий, почти мальчишеский голосок жаловался на жизнь и как к последней надежде обращался к дедушке Константину Макаровичу: «Милый дедушка, нету у меня ни отца, ни маменьки. А вечером мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья во двор и отчесал шпандырем... А еды нету никакой, чтоб чаю или щей, так хозяева сами трескают»... Тишина была в зрительном зале, что называется, мертвая — затаив дыхание, слушали заключенные, что писал Ванька, когда-то давно, еще в XIX веке, на деревню дедушке. Не было, пожалуй, ни одного «зрителя», чье бы сердце не отозвалось и не присоединилось к просьбе Ваньки:. «Милый дедушка, возьми меня отсюда домой на деревню, нету никакой моей возможности, увези меня отсюда, а то помру»... «Забери меня отсюда» — все понимали, что «отсюда» — это из лагеря, из заключения. Спектакль тоже сошел с рук, видимо, в этот момент начальство было настроено либерально, или им «галочку» надо было поставить, дескать, культурная программа в лагере есть.
...Было это уже после смерти Сталина. Тогда пошли некоторые послабления режима, а я был уже «Семен Павлович», так назывались те, кто мог жить уже «за проволокой», за пределами лагеря, т. е. спецпоселенец. Мы сдавали какой-то объект, настроение было другое, в воздухе, кажется, носилась идея полного освобождения, было небольшое застолье, очень тихое и скромное. Выпили одну-две рюмочки. И первый тост был произнесен «За тех, кто в море!». Каждый понимал, что «в море», это в ГУЛАГе. Недаром же Солженицын назвал эти концентрационные лагеря «Архипелаг ГУЛАГ». Но и говорить надо было с осторожностью. Серьезные мысли зашифровывались в иносказание.
В Интлаге охраняли ВОХРовцы, в Минлаге — конвойные, специально вымуштрованные, с собаками. Во время смены караула солдат на вышке громко, на всю округу, рапортовал: «Пост номер один по охране врагов народа сдал!». Новый охранник отвечал: «Пост номер один по охране врагов народа принял!»
То, что они охраняют врагов народа, вдалбливалось крепко в их головы. Мы работали на одном строительном объекте, а рядом, в специально огороженном вольере, обучали собак. Их натаскивали на заключенных. Там были инструктора, на солдат надевали одежду заключенного, собака должна была понимать, что это враг, и уметь его обезвредить.
Однажды вывели на работу группу женщин. Солдаты молодые, сказали что-то обидное. Одна женщина огрызнулась. Словесного аргумента у солдата не оказалось. Тогда он выстрелил и убил женщину. На работу заключенные должны были нести с собою заградительные колышки. На них написано: «Запретная зона». Придут на место, сначала вобьют колышки, определят заграждение. Если кто-нибудь окажется за заграждением, стреляют без предупреждения. Когда солдат убил женщину, он с другими охранниками стал выволакивать труп за линию колышек. Женщины пытались этому препятствовать, тянули убитую обратно. Такая была борьба. Одни тянут туда, другие — обратно, чтобы доказать, что ее застрелили вовсе не за оградительной чертой. Хотя кому и что можно было доказать?
Об этом случае в лагере рассказывали. Я этого сам не видел.
В 1989 году один из бывших узников интинских лагерей опубликовал на страницах журнала «Наука и жизнь», № 3, свое свидетельство. Он приводит случай, подобный тому, о котором я рассказал. Как выстрел мог быть ответом на любое действие, слово, поступок. События, описываемые в журнале, происходили в поселке Абезь, в том самом лагере, где был узником мой брат, протоиерей Яков Начис. Абезь — в нескольких километрах от лагеря «Минеральный», где находился я. В том же громадном острове Архипелага ГУЛАГ, в Коми. Вот что он рассказывает:
«Второй год я находился в особо режимном лагере, расположенном между Интой и Воркутой. Наше шестое отделение было новым — мы строили шахту, но уголь в ней пока не добывался. Из лагерной зоны в шахтную нас водили под конвоем. Однажды, возвращаясь с работы, наша колонна повстречала отсидевшую свой десятилетний срок женщину, несшую несколько буханок черного хлеба. Движимая жалостью и зная про голод в лагере, она бросила одну из буханок сбоку от колонны. За ней потянулся, выйдя на шаг из строя, заключенный, и тотчас же был прошит автоматной очередью. Страшное время сталинщины. Об исключительности нашего положения свидетельствовали и номера на спинах; мой был Б-1-486». (См. продолжение в Приложении.)
Сам я был свидетелем трагической судьбы одной девушки Насти, которую иногда встречал, работая одно время в лагерной больнице. Строил печь в хирургическом отделении. Надо было так продумать кладку, чтобы обеспечивался длительный обогрев с температурой 22—24 градуса.
У Насти было какое-то заболевание, и ей должны были делать две операции — последовательно, сначала одну, после выздоровления — другую. Решили на ней поэкспериментировать и сделать одновременно обе. Операции были сложными. И, конечно, организм ослабленного в условиях лагерной жизни человека не выдержал. Разошлись швы, и Настя умерла от кровотечения. Это был человек удивительной кротости, доброты. У нее был ясный, чистый взор. Русский, сердечный, человек. Погибла ни за что. Эксперимент не удался. Еще помню одну женщину. В больнице было несколько больных с психическими заболеваниями. Их обслуживала Анна. Она оказалась из той же местности, откуда была жена моего брата. Это было для меня неожиданной радостной встречей, будто приветом от родных. Анна хорошо знала всю семью брата, много оказалось общих знакомых. Попала в тюрьму она из-за мужа. Сначала, при немцах, его призвали в оккупационные войска, потом он дезертировал, положение его оказалось сложным. После войны скрывался, иногда заходил домой. Его выследили. Нагрянули с обыском. И на ее глазах убили и мужа, и ребенка в колыбели. Тяжелая душевная травма. А ее направили в ГУЛАГ... Помню, она связала мне варежки.
Бывали в лагере такие случаи, когда перед заключенными и заискивали тюремные служители. Тюремные служители — это особый народ: любители пожить за чужой счет, люди, благодарные этой системе, ибо она их хорошо обеспечивала, стукачи...
Вот помню такой случай.
Строительный материал был дефицитом. Краски было мало. Надзиратели, пользуясь нашим подневольным положением, все время норовили что-нибудь взять. Задаром... У нас кладовщиком был такой простой мужичок, из Печор — Ильин. Однажды к нему повадились надзиратели. Один подошел за краской, другой, третий, несколько человек. Он всем сказал взять банки и подойти, сказал куда и в какое время. А время было как раз такое, когда должен был прийти контрольный десятник. Не помню его имени — Гусейнов, кажется, он был из крымских татар, жил уже на поселении. Семья к нему приезжала— жена с дочерьми. Крымские татары выглядят непривычно для нашего представления о татарах: глаза черные, а волосы светло-русые, очень красивый народ.
Объявили, что будет проверка банок. Так мы заранее договорились. Ведь вот что нам было делать? Надзиратели толкали нас на воровство.
Контрольный десятник видит эту толпу надзирателей с банками и говорит: «Что это за очередь?»
Эта жалкая группа так потихоньку-потихоньку стала расходиться. Неудобно же всем признаться, что воровать пришли. А Ильин им шепчет «доверительно»: «Я бы, может, и дал бы краски, да десятник строгий, обратитесь сами к нему...» А они руками машут: «Да, ну его!» А десятник-то был я. Такое у них было ко мне отношение: дескать, не стоит с ним связываться.
Вольнонаемные, администрация лагеря, уезжая в отпуск, любили увозить из лагеря сувениры. У нас при больничном корпусе были мастерские. Там работали заключенные эстонцы. Очень искусные мастера-краснодеревщики. Излюбленным изделием для таких сувениров были шкатулки из березы, из наплыва. В этих поистине художественных работах поражала не только искусная резьба, но и умение почувствовать фактуру материала. Самые ценные шкатулки были с изображением Васнецовских «Трех богатырей». Один надзиратель, Иван Иванович, собравшись в отпуск, заказал сувенир. Решил приобрести «штукатулку», как он выражался. Ему все изготовили в срок. А полагалось оплатить через кассу, подсчитать стоимость работы. Был такой Павлик Бойко, он занимался подсчетом. Ну и насчитал ему сколько положено. Иван Иванович возмутился, дескать, дорого. У него был очень неприятный писклявый голос, он устроил скандал:
- Почему так дорого!? Что это за штукатулка такая дорогая?
- Из-за наплыва, — говорит Павлик, — наплыв дорогой. А наплыв — это такие наросты на березе, причем, для Севера очень характерны низкорослые березы, на стволах которых образуются выступы самой причудливой формы. Этот материал особенно ценился для поделок.
- Да я тебе таких дров целый мешок принесу! — пообещал
Иван Иванович. И действительно притащил мешок дров, ничто-же сумняшеся, что эти дрова и есть материал для художествен
ной работы мастеров.
Из этих, может быть, небольших эпизодов можно представить себе уровень и образ жизни служителей и создателей ГУЛАГа, верных его стражей и ревнителей правил ГУЛАГовской жизни. Они получали хорошую зарплату. Когда после смерти Сталина стало ясно, что работа ГУЛАГа будет свертываться, узников стали отпускать на волю, были такие высказывания среди обслуживающего персонала, надзирателей, а многие уже обосновались вокруг ГУЛАГа с семьями, обзавелись домашним скарбом: «Жаль, что все кончилось, вот бы еще годик-другой ничего не менялось, и можно было бы пожить по-прежнему».
Хочу к разряду строителей ГУЛАГовской системы добавить особую породу людей — доносчиков, доносителей, осведомителей, по-разному их называли. Их как-то сразу обнаруживали, ходу им не давали. Называли «композиторами». Почему? Говорили про кого-то: «Он композитор, оперу пишет». Оперу, то есть оперуполномоченному. Это, конечно, мрачный юмор. Но иногда судьба таких людей заканчивалась трагически. Над ними вершили самосуд. Я много раз об этом в лагере слышал и однажды увидел такого человека. У него все руки были в шрамах, так же лицо было изуродовано шрамами. Уголовники, как рассказывали в лагере, устроили над ним самосуд, узнав, что он стукач. Он, защищая голову, закрывался руками, и удар топора пришелся по кистям рук.
А между тем, недалеко от меня находился с 1945 года мой брат Яков. С Яковом мы сидели в лагерях рядышком, я в Инте, а он в Абези. Вместе с ним были священники Николай Трубецкой, Димитрий Дудко, Константин Шаховской — племянник известного архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Шанхайского). С Шаховским,54 он и раньше знался, дружили семьями. Сестра о. Константина, Ксения Яковлевна, до недавнего времени жила в Тарту.
Рассказывают, брат бодро держался и подбадривал других, тайно служил литургии...
У меня долгие годы хранился крест, отлитый из лагерной алюминиевой ложки, размером с напрестольный. Этот крест из тех святынь, которые использовались братом в лагере тайно для служения литургии.
От брата этот крест достался мне. Несколько лет назад я подарил его архимандриту Прокопию, греку, настоятелю православного собора в Афинах. Греки приняли подарок как святыню. В ответ подарили дивной красоты крест, украшенный «драгоценностями», сделанными из стекла. Грека спросили на таможне, когда он вез подарок, не золотой ли крест? Отец Прокопий во время пребывания в Петербурге в Духовной Академии стремился изучать русский язык, проявлял особый интерес к разговорному языку, фразеологизмам, пословицам. Запоминал интересные народные выражения, переспрашивал пословицы, просил их объяснять. Он ответил таможеннику: «Да, из золота, только из самоварного». И благополучно прошел досмотр. Он рассказывал мне и гордился, что хорошо запомнил это меткое словечко.
Тот самодельный алюминиевый крест, рассказывал Архимандрит Прокопий, хранится в алтаре греческой церкви.
Летом 55-го, по освобождении из лагеря, брат устроился в Инте дежурным электриком, рядом со мной. Он тогда был уже не «Захар Кузьмич», то есть не заключенный, как мы в шутку, на своем лагерном жаргоне, называли заключенных, то есть самих себя — Захары Кузьмичи. Он был уже «Семен Павлович» — спецпоселенец. А я был еще подконвойным, лагерником.
Он мог свободно (было облегчение режима) проходить в зону. Бывало, я нахожусь где-то за проволокой. Вижу — идет брат, и посвищу тихонько. У нас был такой свой семейный условный свист. Брат обернется — увидит меня, попросит охрану пропустить, его пропускали. Мы могли перемолвиться.
Но вот обратили внимание, что на одной сравнительно небольшой территории находятся два родственника. И для профилактики — это уже отголоски старого режима — меня как заключенного срочно перевели в Кажим. Там был рудник. Было это в начале 55-го года. А брат как спецпоселенец остался в Инте. Он работал на подстанции.
Тем же летом приезжал Архиепископ Феодосии из Архангельска. Брата отпустили из Инты, и он ездил довольно далеко на встречу с Архиепископом, виделся с ним на пароходе, в его каюте. А я не смог пойти. Архиепископ назначил его священником в село Кочпон.
Времена менялись, и уже в Кажиме мы ощутили некоторое облегчение.
С меня сняли конвой, вывели за зону, стало возможным свободно передвигаться по поселку. В июне, еще будучи заключенным, в выходные я съездил к брату в Инту.
Потом из Инты Якову пришлось уехать, не разрешили, чтобы два брата жили в одной местности.
Брату не сразу разрешили вернуться на Родину. Он поселился в Кочпоне — это далекий северный угол в окрестностях Сыктывкара, где стояла единственная тогда в Коми действующая церковь. Помню, он прислал мне посылку со свежими огурцами. Это было удивительно, я уже за столько лет, можно сказать, забыл, что где-то растут огурцы. Туда к нему жить приехала жена с сыновьями — Ростиславом и Сергием. Вот были рады увидеть друг друга! Однажды в кочпонской школе потребовали от Сережи отречения от своего отца-священника. Мальчик ответил так: «Папу люблю. Никогда от него не отрекусь».
Меня спрашивают, почему существование концентрационных лагерей многим не было известно в стране, почему некоторые люди действительно верили в то, что существуют «враги народа», и не подозревали о гигантском размахе репрессий?
В современной литературе это обосновывают по-разному. Но я лично считаю, что существовала специальная политика вытравливания из памяти народа всех знаний о репрессированном человеке, о его семье, родственниках, о нем самом, его прошлой жизни, знакомых и близких людях. Когда меня арестовали, в доме произвели обыск. Никаких секретных документов у меня не было, никакого «компромата» они на меня не нашли. Но все фотографии, детские мои снимки, фотографии моих родственников, соучеников по гимназии, по Университету — все было уничтожено. Причем такая еще произошла махинация, что под фактом изъятия еще и моя подпись стоит, дескать согласен. Чтобы уж никто никогда не предъявил им никакого иска. Они мастера на такие штуки.
Получилось так. Во время следствия показали мне какие-то старые, ненужные мне уже давно мои черновые записи, касающиеся несущественных бытовых вопросов. Говорят: «Имеют ли эти бумаги отношение к делу?» Я говорю: «Нет, не имеют». — «Тогда распишитесь». Я расписался. И они вместе с этими старыми ненужными бумагами уничтожили и все мои фотографии, как потом выяснилось.
Когда меня освободили и я добрался, наконец, до дома, потом, исподволь я старался восполнить все похищенное у меня при аресте. Еще живы были родители, родственники, университетские и гимназические друзья. Что-то я просил подарить мне, что-то перефотографировал. Какие-то фотографии срочно организовал. Но кое-какие снимки все же погибли безвозвратно.(55)
Казалось бы, семейная фотография — такая безобидная вещь?!
Но они понимали, что фотографии — это память человеческая. Нет памяти, нет истории. Человек не помнит, кто он и откуда. А потом тем, кому выпадало до этого дожить, после освобождения разрешали поселяться в каких-нибудь глухих углах. На родину возвратиться было очень трудно. Так люди оседали где-то в отдаленных местностях, постепенно забывая свою прежнюю жизнь, родственников, свое детство, родные места.